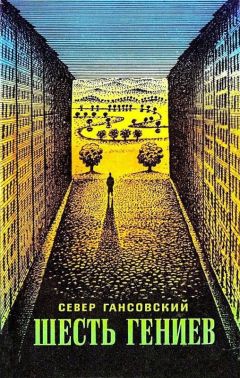Одним словом, синьор, я взялся учить Джулио пению.
Я немного музицирую, и дома у меня есть инструмент. Не рояль, а челеста. Вон там она стоит, в задней комнате. Челеста похожа на небольшое пианино, но меньше — в ней всего четыре октавы. Звук извлекается не из струн, а из металлических пластинок и чрезвычайно нежен. Нежный, небесный звук, и поэтому сам инструмент называется celesta, то есть «небесная». Вас может удивить, откуда у бедняка парикмахера такая дорогая вещь. Но дело в том, что мой дед состоял в оркестре у старого графа Карло Буондельмонте, а тот, когда умирал, завещал все инструменты тем оркестрантам, которые на них играли.
Так вот, когда Джулио в тот вечер, лежа на постели, рассказал нам свою историю, я тут же, не сходя с места, пообещал сделать из него певца. Конечно, я всего лишь дилетант, синьор, но имейте в виду, что только на иностранных языках это слово приобрело неприятный и даже ругательный оттенок. По-нашему, по-итальянски, дилетант означает «радующий», тот, кто радует людей своим искусством, своей преданностью музыке или живописи.
Когда Джулио немного отдохнул, Катерина каждый вечер стала приводить его ко мне. Было что-то трогательное, синьор, в этой парочке. Он — высокий, худой, зеленый, с трудом волочащий ноги, и она, Катерина, загорелая, крепкая, пышущая энергией и здоровьем. Целые дни она работала на огородах, почти от зари до зари, но к вечеру у нее еще оставались силы, чтобы обстирать маленьких сестренок Джулио и вымыть пол в их каморке. Молодость, синьор.
Все глаза смотрели на них с симпатией, и каждый желал им успеха. Сперва Джулио ходил на костылях, но позже ему сделалось лучше, и он только опирался на палочку.
Мы начали с нотной грамоты и сидели на этом около трех недель. Одновременно я ему показал интервалы: прима, секунда, терция… И примерно через месяц взялись за сольфеджио. Он пел по нотам, а я поправлял. Голос, открывшийся у Джулио в результате операции, был сначала высоким баритоном, который у нас зовется «баритоном Верди», поскольку все оперы композитора требуют именно такого голоса.
Слух развивался у него удивительно быстро. Однажды, на втором месяце обучения, он поразил меня тем, что, послушав предыдущим вечером по радио «Прелюды» Листа, на другой день подхватил главную тему в ми-миноре и повторил ее на нашей челесте верно почти всю целиком.
Но голос и слух, синьор, — это одно, а искусство петь — другое. Вы понимаете, он не умел держать звук. У него был великолепный голос без провалов, без тусклых нот, ровный и сильный, как в верхах, так и в середине, но стоило ему взять звук, верный, чистый и хорошо интонированный, как он тотчас бросал его, соскальзывая во что-то непотребное.
Между тем в чем же состоит bel canto, наше итальянское «прекрасное пение»? Именно в умении держать звук по-особому. В этом его отличие от неискусного пения. Вы берете звук музыкальной фразы и держите его, не бросая и не уменьшая силы, до момента наступления по темпу второго звука. Этот второй вы берете сильнее и держите до третьего. Третий еще сильнее, и так до самого сильного места, а потом тем же порядком вниз. Тогда и получается цельная, скрепленная во всех частях музыкальная фраза. Только тогда вы и поете не отдельными словами, а фразами.
Как раз этому я и стал учить его. Но как, синьор? Что значит «учит петь»? Отвечу вам на этот вопрос, сказав, что лично я попросту пел вместе с Джулио. В музыкальных школах существует термин «ставить голос». Там обучают, как образовывать звук, как выталкивать воздух через голосовые связки, как добиваться, чтобы их дрожание резонировало в груди и в верхних резонаторах. Но все это не внушает мне доверия. Вы же не можете сказать себе во время пения: «Ну-ка, я сейчас натяну голосовые связки и поверну их вот этак…» Попробуйте спеть что-нибудь, думая о том, как держать гортань, и вы станете мокрым через две минуты…
Короче говоря, мы просто пели. Мы пели вместе, а потом он пел один, а я поправлял его. Или я пел, а он слушал.
Конечно, у нас были большие разочарования, синьор. Целых два месяца у Джулио ничего не выходило. Хотя слух развился скоро, но это был слух, так сказать, «в уме», и парню никак не удавалось перевести его в голос. Он раскрывал рот, и после первой верной ноты раздавалось такое, что хоть беги из комнаты. Порой он подолгу сидел бледный, кусая губы, по лбу у него стекал пот, и мы старались не смотреть друг на друга.
Но позже, на третий месяц, что-то стало вырисовываться. Что-то стало прорезываться, синьор. В хаосе фальшивых тонов начали иногда проскальзывать верные, и это было как явление бога. Потому что голос-то был божественный.
А потом пришел день. Один из лучших дней моей жизни. Вот и сейчас слезы навертываются у меня на глаза, когда я вспоминаю о той минуте.
Мы разучивали ариозо Канио из «Паяцев». Вы, конечно, помните то место оперы, когда несчастный Канио узнает об измене Недды. Канио уже не молод, он зрелый, стареющий мужчина, и это придает его страданию особенно сильный характер. Он клоун, паяц, то есть представитель презираемой профессии, но в то же время самостоятельность его ремесла воспитала в нем и гордость и достоинство. Канио боготворил молодую жену, и вдруг он застает ее с любовником. Его горе не поддается описанию, но он не может даже побыть со своим несчастьем один. Через несколько минут в балагане начнется представление, где Канио должен играть роль обманутого глупца супруга, то есть надсмеяться надо всем тем, что рыдает сейчас в его сердце…
Я проиграл на челесте вступление — там совсем маленькое вступление. Джулио выглядел задумавшимся, он молчал. Я окликнул его, он бросил на меня взгляд, и как будто огонь сверкнул в воздухе.
Джулио открыл рот и запел:
Играть… Когда точно в бреду я…
И он спел это верно, синьор! В первый раз верно! Но как спел!
Синьор, мы посмотрели друг на друга, и слезы выступили у нас на глазах. Мы заплакали.
Вы понимаете, это был день как день. Мы сидели вон в той захламленной комнатушке. За стеной сосед-сапожник стучал молотком, на улице женщина у колонки споласкивала ведро. Все было как обычно, и вдруг в эту обыденность вошло что-то большое, огромное. Все вокруг изменилось, и мы уже были не те. Такова сила искусства. Как будто мы поднялись высоко-высоко и поняли что-то о нас самих прекрасное и глубокое.
Одну-единственную фразу он спел верно, но это было как если бы все на этой земле, кто любил и был обманут в своей любви, вдруг получили голос и позвали нас к жалости и состраданию.
Играть… Когда точно в бреду я, Ни слов и ни поступков своих не понимаю…
Это уже не Джулио пел. Это пела вся жизнь нашего маленького городка и сотен других таких же городков. Наша бедность, мечты, горести и наши надежды на счастье. И уже не моя челеста аккомпанировала пению, а невидимый огромный оркестр исполнял великую музыку Леонкавалло.
![Север Гансовский - Шесть гениев [Сборник]](https://cdn.my-library.info/books/82955/82955.jpg)